Труд женского рода
15.12-5.01.25
Фотографии: Дима Птицын
осси ми
чоп созидание
Труд женского рода
Групповая выставка
Кураторки: Наташа Вагинова, Юля Тихомирова
Художницы: Марина Алаева, Вика Командина, Марина и Кира Дьяконовы, Аня Шевченко,
Мария Soloway Самойлова, группа «Женский отказ», Мария Кабашова, Кутя, Тато
Женский труд исторически был невидимым, несмотря на его фундаментальную роль
в поддержании и воспроизводстве общества. «Работа по хозяйству», забота о детях, аффективное и телесное обслуживание «кормильца» — эти виды трудовой деятельности воспринимаются как естественное продолжение женской «природы» и в патриархальных обществах по умолчанию возлагаются на женщин. «Политика — это не просто управление государством, это управление телами, управление жизнями», -- писал Фуко, рассуждая о биовласти. И, конечно же, такое управление невозможно без активного формирования обязанностей «хранительниц очага».
Тех, кто даёт и поддерживает жизнь на планете Земля. Но сегодня к этому добавляется полноценное вовлечение в капиталистическое производство. Вовлечение, которое при этом
не получает должного признания и существует на дисбалансе заработных плат и трудового сексизма. Современные исследования в области феминистской теории подчеркивают двойную эксплуатацию женщин: на рынке труда и в домашнем хозяйстве. Одной из ключевых фигур, писавших о труде женщин, отечественная революционерка и теоретик марксизма Александра Коллонтай подчеркивала, что двойное бремя женщин — участие в производстве и выполнение домашних обязанностей — является главным препятствием на пути их освобождения. В своих работах начала прошлого века «Новая женщина» и «Общество и материнство»,
она рассматривала женский труд как основу для построения равноправного общества
и выступала за социализацию и признание домашней эксплуатации, предлагая создать систему общественных столовых, прачечных и детских садов, чтобы освободить женщин
от рутины. Но советская политика лишь еще более закабалила женщин в роли «двойных работниц». Спустя годы мы можем наблюдать руины социального эксперимента в лице московского дома Наркомфина, реставрированного в виде элитного жилья для коллекционеров
и квартирования «девочек и институций».
Особое место в обсуждении женского труда занимает работа итальянской феминистки
и теоретика Сильвии Федеричи. В своей книге «Caliban and the Witch: Women, the Body
and Primitive Accumulation» она исследует, как женский труд и тело стали объектом контроля
и эксплуатации в эпоху первоначального накопления капитала. Федеричи утверждает,
что охота на ведьм в Европе XVI-XVII веков была инструментом подавления женской автономии и установления новых форм контроля над репродуктивной функцией женщин. Капитализм не только экономически, но и социально зависел от подчинения женщин, превращая их в невидимую, но незаменимую часть производственных процессов. В работе «Wages Against Housework», Федеричи требует признания и справедливой оплаты домашнего труда.
Слова труд и женщина редко встречаются в российском искусстве. До известной степени место
этой «нон-спектакулярной» темы отражает положение дел. Одновременно с тем нельзя сказать, что интернациональная история искусства богата на произведения, осмысляющие женское рабочее движение.
Их рождение требует особых условий, делающих невозможным игнорирование роли женщины
в поддержании общественного производства. Такими периодами нередко становятся периоды войн, как например, империалистической войны США во Вьетнаме параллельно, которой
разворачивалось становление концептуального искусства, или одной из первых заметных англоязычных инициатив, осмысляющих труд на территории искусства – “Art Workers Coalition”. Тогда же на фоне реакции свинцовых 1970-х создается имеющий сегодня культовый статус проект Маргарет Харрисон, Кей Хант и Мэри Келли «Женщины и работа: документ о разделении труда
в промышленности 1973–1975 гг.» Художницы объединились, чтобы изучить условия, в которых работают женщины на одной из лондонских фабрике и «поддерживать связи с соответствующими профсоюзами и антидискриминационными кампаниями». Творческому союзу предшествовала деятельность внутри «Женского воркшопа», который в свою очередь был часть лондонского союза художников и художниц. Все это позволило состояться высказыванию, которое наш взгляд на искусство, и внесло вклад в активистскую поддержку тружениц Британии.
Надо ли говорить, что текущие реалии жизни в Российской Федерации не могут дать и шанса на столь амбициозные цели. Своей выставкой мы претендуем лишь на то, чтобы указать очевидную, но систематически вытесняемую истину – труд (по крайней мере в текущем контексте) женского рода. Все начинается с «плодотворения» или же его «прерывания» как реакции сродни забастовке на биологическом уровне, которую пытаются осуществить постконцептуалистски «Женского отказа». Вышивка «Мандорла» Кути тоже указывает на наше начало. Где-то рядом находится слово «Брак», которое транзитом через сон на рабочем месте на фарфоровом заводе, где работает Вика Командина, материализуется в виде плоской скульптуры из реди-мейдов бракованных изделий. Мария Кабашова подсвечивает многочасовым перформансом с чисткой картофеля еще одну серую территорию – «домашние обязанности» женщины. Марина Алаева в постминималистской скульптуре, созданной из профильных ограничителей для грядок и гравировки с текстом, исследует тех, кто чаще всего ассоциируется с выращивающими картофель труженицами выходного дня - огородницами. Мария Soloway Самойлова и Тато создают еще два произведения
о работе на современных заводах. Первая делает живопись, графику и коллажи.
Вторая делает графику в альбоме про то, как делает мебель. Марина Дьяконова исследует историю своей семьи и значимых для нее женщин, создавая им своеобразные фантомные монументы из бетона звука, созданного совместно со своей дочерью саунд-художницей Кирой Дьяконовой, Мариной Алаевой, Марией Soloway Самойловой и Тато.
Наташа Вагинова
Тексты и комментарии к работам: Юля Тихомирова
Групповая выставка
Кураторки: Наташа Вагинова, Юля Тихомирова
Художницы: Марина Алаева, Вика Командина, Марина и Кира Дьяконовы, Аня Шевченко,
Мария Soloway Самойлова, группа «Женский отказ», Мария Кабашова, Кутя, Тато
Женский труд исторически был невидимым, несмотря на его фундаментальную роль
в поддержании и воспроизводстве общества. «Работа по хозяйству», забота о детях, аффективное и телесное обслуживание «кормильца» — эти виды трудовой деятельности воспринимаются как естественное продолжение женской «природы» и в патриархальных обществах по умолчанию возлагаются на женщин. «Политика — это не просто управление государством, это управление телами, управление жизнями», -- писал Фуко, рассуждая о биовласти. И, конечно же, такое управление невозможно без активного формирования обязанностей «хранительниц очага».
Тех, кто даёт и поддерживает жизнь на планете Земля. Но сегодня к этому добавляется полноценное вовлечение в капиталистическое производство. Вовлечение, которое при этом
не получает должного признания и существует на дисбалансе заработных плат и трудового сексизма. Современные исследования в области феминистской теории подчеркивают двойную эксплуатацию женщин: на рынке труда и в домашнем хозяйстве. Одной из ключевых фигур, писавших о труде женщин, отечественная революционерка и теоретик марксизма Александра Коллонтай подчеркивала, что двойное бремя женщин — участие в производстве и выполнение домашних обязанностей — является главным препятствием на пути их освобождения. В своих работах начала прошлого века «Новая женщина» и «Общество и материнство»,
она рассматривала женский труд как основу для построения равноправного общества
и выступала за социализацию и признание домашней эксплуатации, предлагая создать систему общественных столовых, прачечных и детских садов, чтобы освободить женщин
от рутины. Но советская политика лишь еще более закабалила женщин в роли «двойных работниц». Спустя годы мы можем наблюдать руины социального эксперимента в лице московского дома Наркомфина, реставрированного в виде элитного жилья для коллекционеров
и квартирования «девочек и институций».
Особое место в обсуждении женского труда занимает работа итальянской феминистки
и теоретика Сильвии Федеричи. В своей книге «Caliban and the Witch: Women, the Body
and Primitive Accumulation» она исследует, как женский труд и тело стали объектом контроля
и эксплуатации в эпоху первоначального накопления капитала. Федеричи утверждает,
что охота на ведьм в Европе XVI-XVII веков была инструментом подавления женской автономии и установления новых форм контроля над репродуктивной функцией женщин. Капитализм не только экономически, но и социально зависел от подчинения женщин, превращая их в невидимую, но незаменимую часть производственных процессов. В работе «Wages Against Housework», Федеричи требует признания и справедливой оплаты домашнего труда.
Слова труд и женщина редко встречаются в российском искусстве. До известной степени место
этой «нон-спектакулярной» темы отражает положение дел. Одновременно с тем нельзя сказать, что интернациональная история искусства богата на произведения, осмысляющие женское рабочее движение.
Их рождение требует особых условий, делающих невозможным игнорирование роли женщины
в поддержании общественного производства. Такими периодами нередко становятся периоды войн, как например, империалистической войны США во Вьетнаме параллельно, которой
разворачивалось становление концептуального искусства, или одной из первых заметных англоязычных инициатив, осмысляющих труд на территории искусства – “Art Workers Coalition”. Тогда же на фоне реакции свинцовых 1970-х создается имеющий сегодня культовый статус проект Маргарет Харрисон, Кей Хант и Мэри Келли «Женщины и работа: документ о разделении труда
в промышленности 1973–1975 гг.» Художницы объединились, чтобы изучить условия, в которых работают женщины на одной из лондонских фабрике и «поддерживать связи с соответствующими профсоюзами и антидискриминационными кампаниями». Творческому союзу предшествовала деятельность внутри «Женского воркшопа», который в свою очередь был часть лондонского союза художников и художниц. Все это позволило состояться высказыванию, которое наш взгляд на искусство, и внесло вклад в активистскую поддержку тружениц Британии.
Надо ли говорить, что текущие реалии жизни в Российской Федерации не могут дать и шанса на столь амбициозные цели. Своей выставкой мы претендуем лишь на то, чтобы указать очевидную, но систематически вытесняемую истину – труд (по крайней мере в текущем контексте) женского рода. Все начинается с «плодотворения» или же его «прерывания» как реакции сродни забастовке на биологическом уровне, которую пытаются осуществить постконцептуалистски «Женского отказа». Вышивка «Мандорла» Кути тоже указывает на наше начало. Где-то рядом находится слово «Брак», которое транзитом через сон на рабочем месте на фарфоровом заводе, где работает Вика Командина, материализуется в виде плоской скульптуры из реди-мейдов бракованных изделий. Мария Кабашова подсвечивает многочасовым перформансом с чисткой картофеля еще одну серую территорию – «домашние обязанности» женщины. Марина Алаева в постминималистской скульптуре, созданной из профильных ограничителей для грядок и гравировки с текстом, исследует тех, кто чаще всего ассоциируется с выращивающими картофель труженицами выходного дня - огородницами. Мария Soloway Самойлова и Тато создают еще два произведения
о работе на современных заводах. Первая делает живопись, графику и коллажи.
Вторая делает графику в альбоме про то, как делает мебель. Марина Дьяконова исследует историю своей семьи и значимых для нее женщин, создавая им своеобразные фантомные монументы из бетона звука, созданного совместно со своей дочерью саунд-художницей Кирой Дьяконовой, Мариной Алаевой, Марией Soloway Самойловой и Тато.
Наташа Вагинова
Тексты и комментарии к работам: Юля Тихомирова
первая часть выставки в осси ми

Вид экспозиции
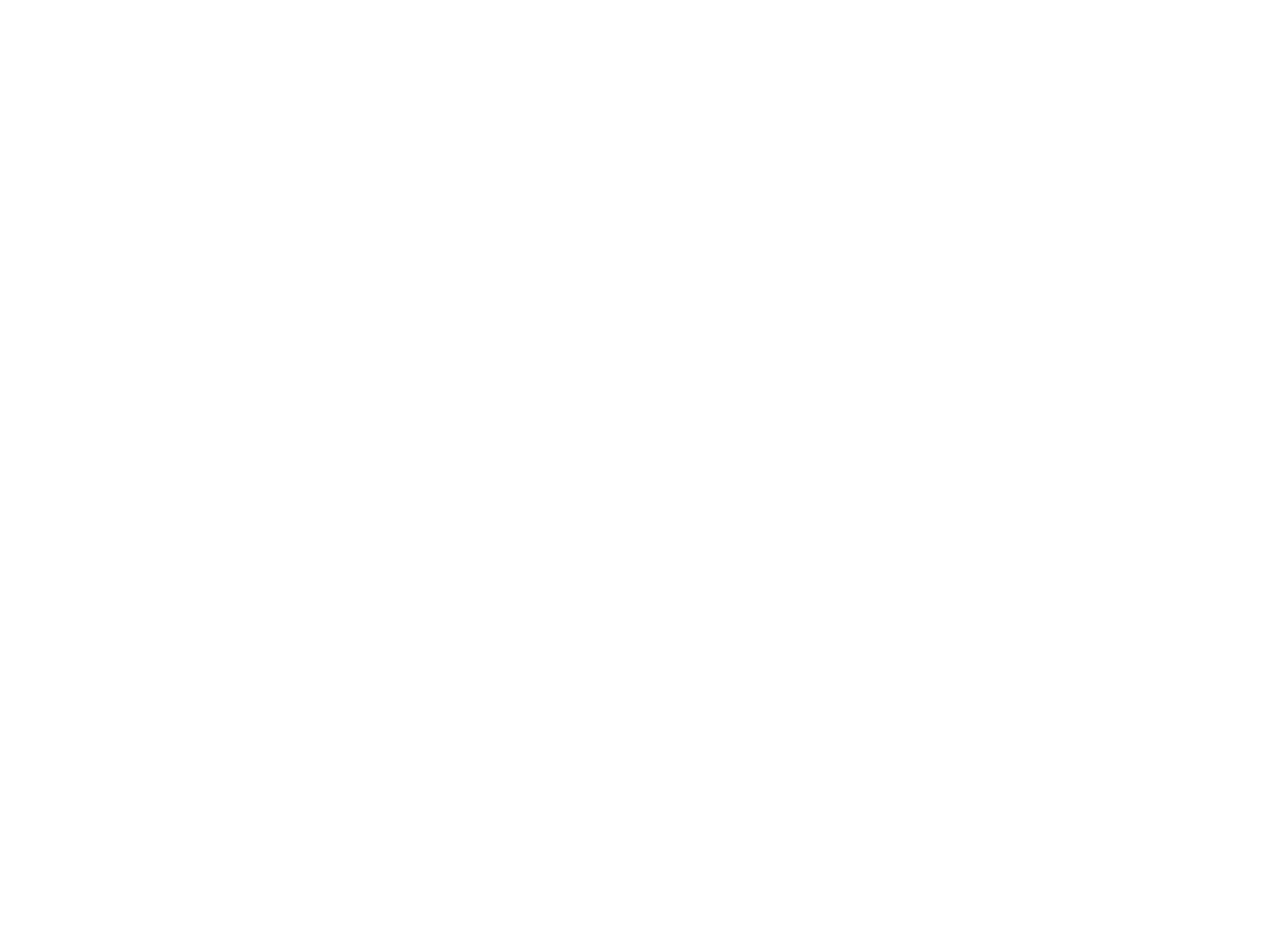
Вид экспозиции

[1]
Марина Алаева
«Ну и что я буду еще делать?!»
Инсталляция из трёх оцинкованных
грядок
2024
Постминималистская скульптура Марины Алаевой собрана из оцинкованных грядок, на внутренней стороне которых написаны реплики женщин-огородниц, для которых труд на грядках становится вдохновением
и одновременно возможно неотчуждаемым трудом. Не всё, впрочем, столь пасторально: прямоугольные контуры
на земле отдаленно напоминают могилы, что находит отражение в личной истории и мифологии художницы,
для которой тема огорода амбивалентна и пронизана травматическими переживаниями.
Марина Алаева
«Ну и что я буду еще делать?!»
Инсталляция из трёх оцинкованных
грядок
2024
Постминималистская скульптура Марины Алаевой собрана из оцинкованных грядок, на внутренней стороне которых написаны реплики женщин-огородниц, для которых труд на грядках становится вдохновением
и одновременно возможно неотчуждаемым трудом. Не всё, впрочем, столь пасторально: прямоугольные контуры
на земле отдаленно напоминают могилы, что находит отражение в личной истории и мифологии художницы,
для которой тема огорода амбивалентна и пронизана травматическими переживаниями.

[1]
Марина Алаева
«Ну и что я буду еще делать?!»
Инсталляция из трёх оцинкованных
грядок
2024
Марина Алаева
«Ну и что я буду еще делать?!»
Инсталляция из трёх оцинкованных
грядок
2024

[1]
Марина Алаева
«Ну и что я буду еще делать?!»
Инсталляция из трёх оцинкованных
грядок
2024
Марина Алаева
«Ну и что я буду еще делать?!»
Инсталляция из трёх оцинкованных
грядок
2024
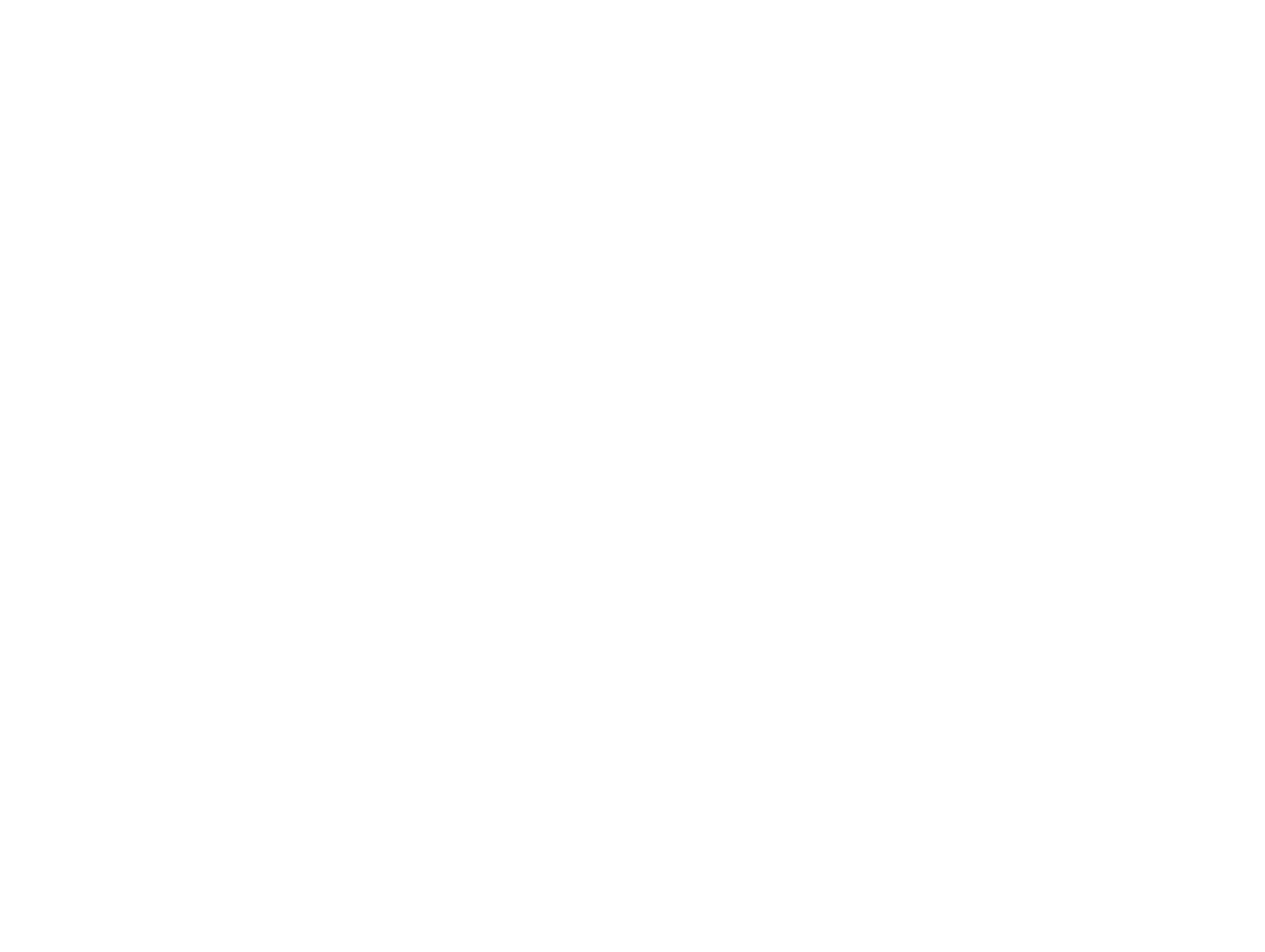
[2]
Тато
«На работе. Не на работе.»
2023-2024
Альбом акварельных зарисовок Тато, маленькая черная книжка,
практически полностью сливающаяся с черной стеной галереи, — фиксация рабочих будней. Сидя на работе
в мебельном цеху, художница рисует и подписывает каждый лист лаконичным: «на работе». Абстракции переходят в заводские пейзажи, а те в свою очередь плавно перетекают в портреты, — все это сливается
в акварельном дурмане в бесконечную рабочую череду.
Тато
«На работе. Не на работе.»
2023-2024
Альбом акварельных зарисовок Тато, маленькая черная книжка,
практически полностью сливающаяся с черной стеной галереи, — фиксация рабочих будней. Сидя на работе
в мебельном цеху, художница рисует и подписывает каждый лист лаконичным: «на работе». Абстракции переходят в заводские пейзажи, а те в свою очередь плавно перетекают в портреты, — все это сливается
в акварельном дурмане в бесконечную рабочую череду.

[2]
Тато
«На работе. Не на работе.»
2023-2024
Тато
«На работе. Не на работе.»
2023-2024
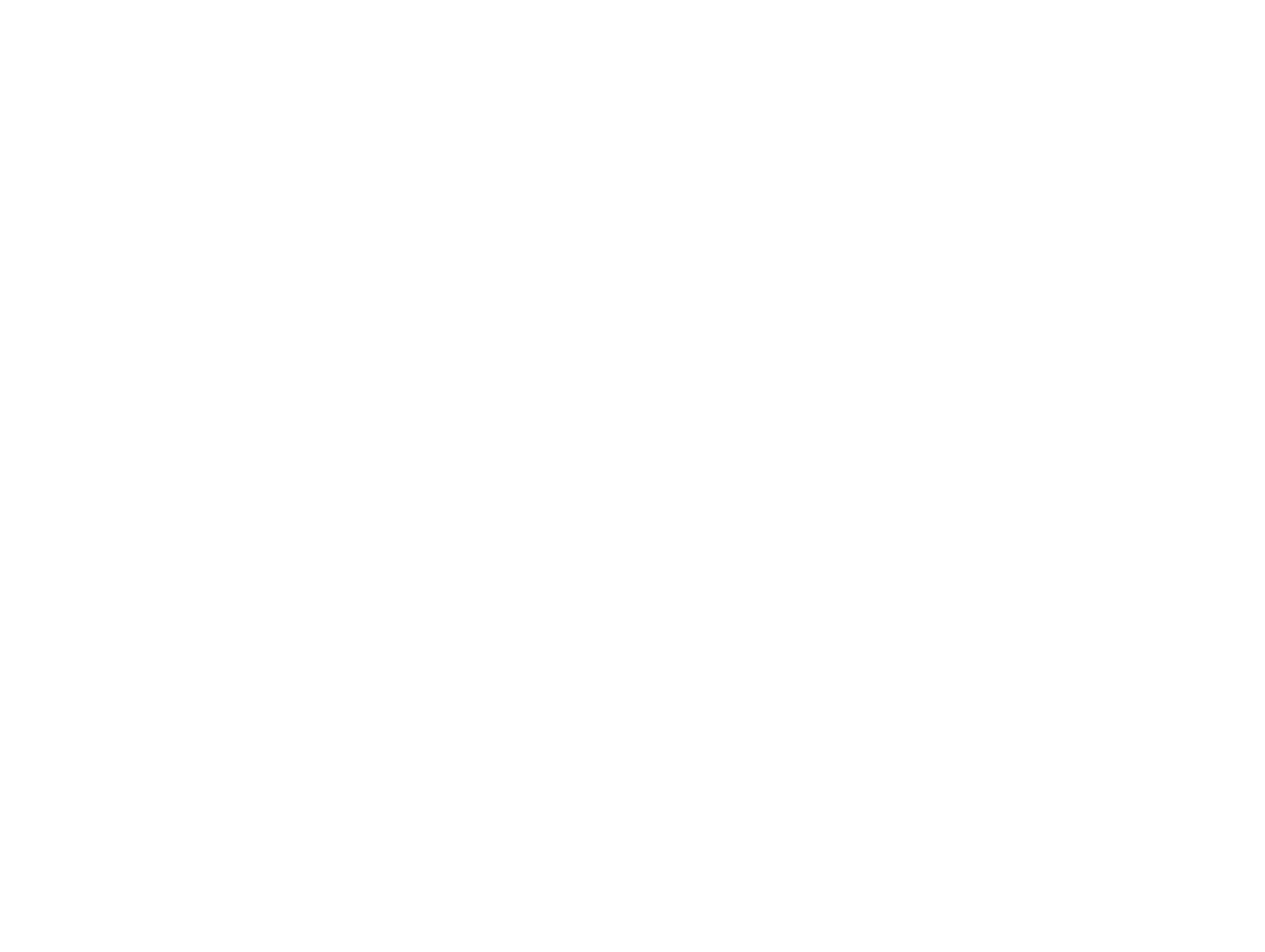
[2]
Тато
«На работе. Не на работе.»
2023-2024
Тато
«На работе. Не на работе.»
2023-2024
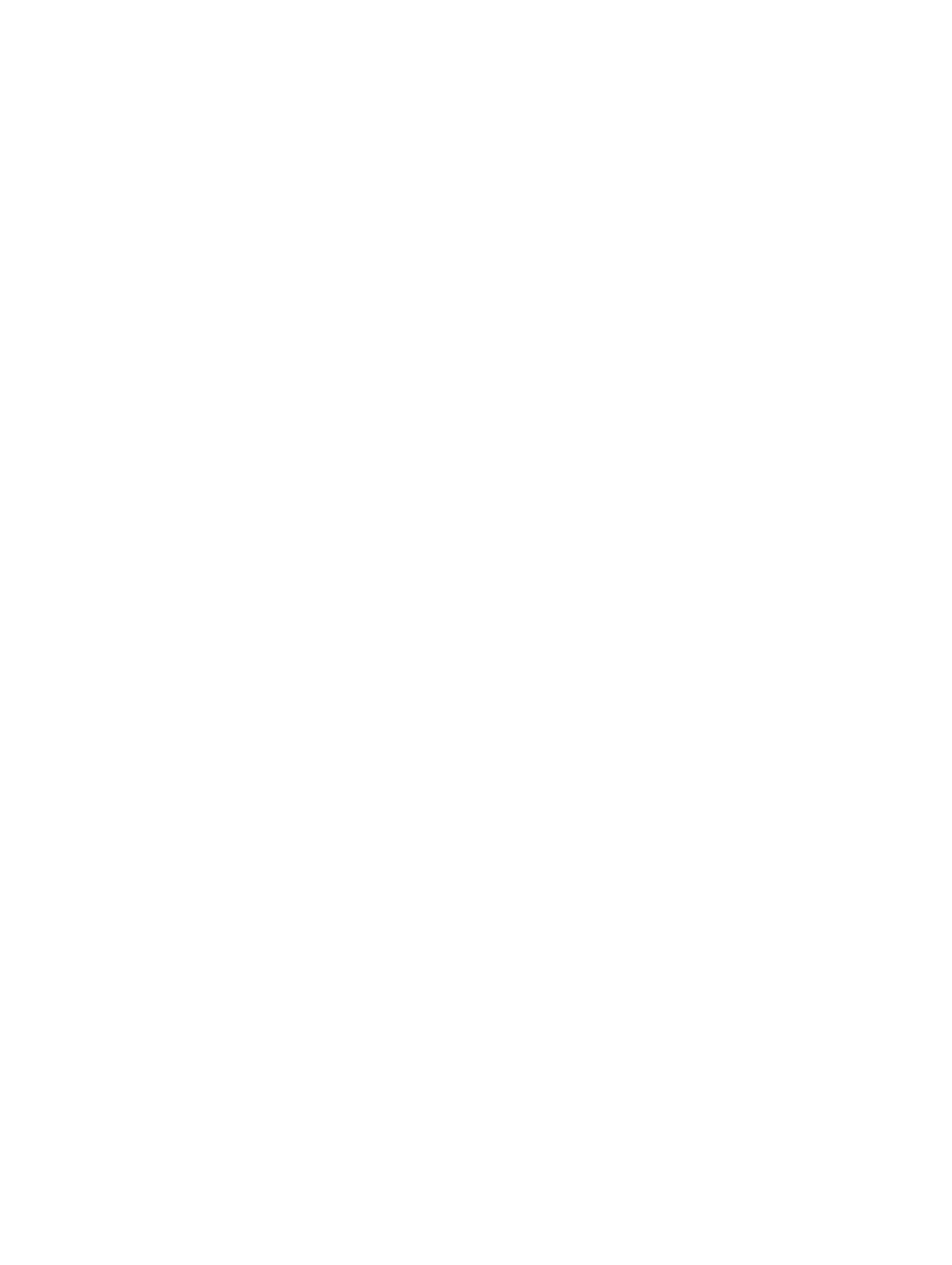
[3]
Марина и Кира Дьяконова
«Бетонные бабы»
Бетон, текстиль, одноканальное аудио.
2024
Монументальные фигуры — проект Марины Дьяконовой «Бетонные бабы». Они являются зрителю
как архаичные, облаченные в бесформенные рабочие робы незримые привидения женщин минувших эпох. Возникают ассоциации не только мистические, но и обыденно-жуткие, болезненно бытовые: это повешенные
на балконе люди или просто сушащееся белье? Есть в парадоксально легких драпировках «Бетонных баб»
и нечто царственное: в коронационных альбомах века Просвещения монаршее облачение изображали висящим на плечах невидимой фигуры. Глухой звук доносится изнутри фантомных фигур: Марина Дьяконова внедряет
в работу аудиодорожку о женском труде, автором которой стала дочь саунд-художница Кира Дьяконова.
Марина и Кира Дьяконова
«Бетонные бабы»
Бетон, текстиль, одноканальное аудио.
2024
Монументальные фигуры — проект Марины Дьяконовой «Бетонные бабы». Они являются зрителю
как архаичные, облаченные в бесформенные рабочие робы незримые привидения женщин минувших эпох. Возникают ассоциации не только мистические, но и обыденно-жуткие, болезненно бытовые: это повешенные
на балконе люди или просто сушащееся белье? Есть в парадоксально легких драпировках «Бетонных баб»
и нечто царственное: в коронационных альбомах века Просвещения монаршее облачение изображали висящим на плечах невидимой фигуры. Глухой звук доносится изнутри фантомных фигур: Марина Дьяконова внедряет
в работу аудиодорожку о женском труде, автором которой стала дочь саунд-художница Кира Дьяконова.

[4]
Группа «Женский отказ»
Документация проекта «Плодотворное прерывание»
Цифровая печать
2024
Группа «Женский отказ» представляет документы, связанные с проектом «Плодотворное
прерывание». Осознав свое положение в современной России, художницы пришли к выводу, что решение рожать детей необходимо отложить на неопределенный срок. Срок этот, однако, может настать слишком нескоро,
а потому участницы группы приняли решение заморозить свои яйцеклетки с возможностью их оплодотворения в будущем, при наступлении благоприятных социальных условий. Поместить эти замороженные яйцеклетки необходимо в холодильниках, их, в свою очередь, должен хранить гарант вечности — музей. Так, у художниц будут дети, которых точно возьмут в будущее. «Женский отказ» дал возможность нескольким отечественным институциям стать частью этого поистине иновационного социо-биологического арт-проекта забастовки. Музеи, впрочем, ответили «Женскому отказу» отказом институциональным.
Группа «Женский отказ»
Документация проекта «Плодотворное прерывание»
Цифровая печать
2024
Группа «Женский отказ» представляет документы, связанные с проектом «Плодотворное
прерывание». Осознав свое положение в современной России, художницы пришли к выводу, что решение рожать детей необходимо отложить на неопределенный срок. Срок этот, однако, может настать слишком нескоро,
а потому участницы группы приняли решение заморозить свои яйцеклетки с возможностью их оплодотворения в будущем, при наступлении благоприятных социальных условий. Поместить эти замороженные яйцеклетки необходимо в холодильниках, их, в свою очередь, должен хранить гарант вечности — музей. Так, у художниц будут дети, которых точно возьмут в будущее. «Женский отказ» дал возможность нескольким отечественным институциям стать частью этого поистине иновационного социо-биологического арт-проекта забастовки. Музеи, впрочем, ответили «Женскому отказу» отказом институциональным.

[4]
Группа «Женский отказ»
Эскиз холодильников, приложенный к письму
Группа «Женский отказ»
Эскиз холодильников, приложенный к письму

[4]
Группа «Женский отказ»
Ответ из ММОМА, получен через 10 дней
Группа «Женский отказ»
Ответ из ММОМА, получен через 10 дней
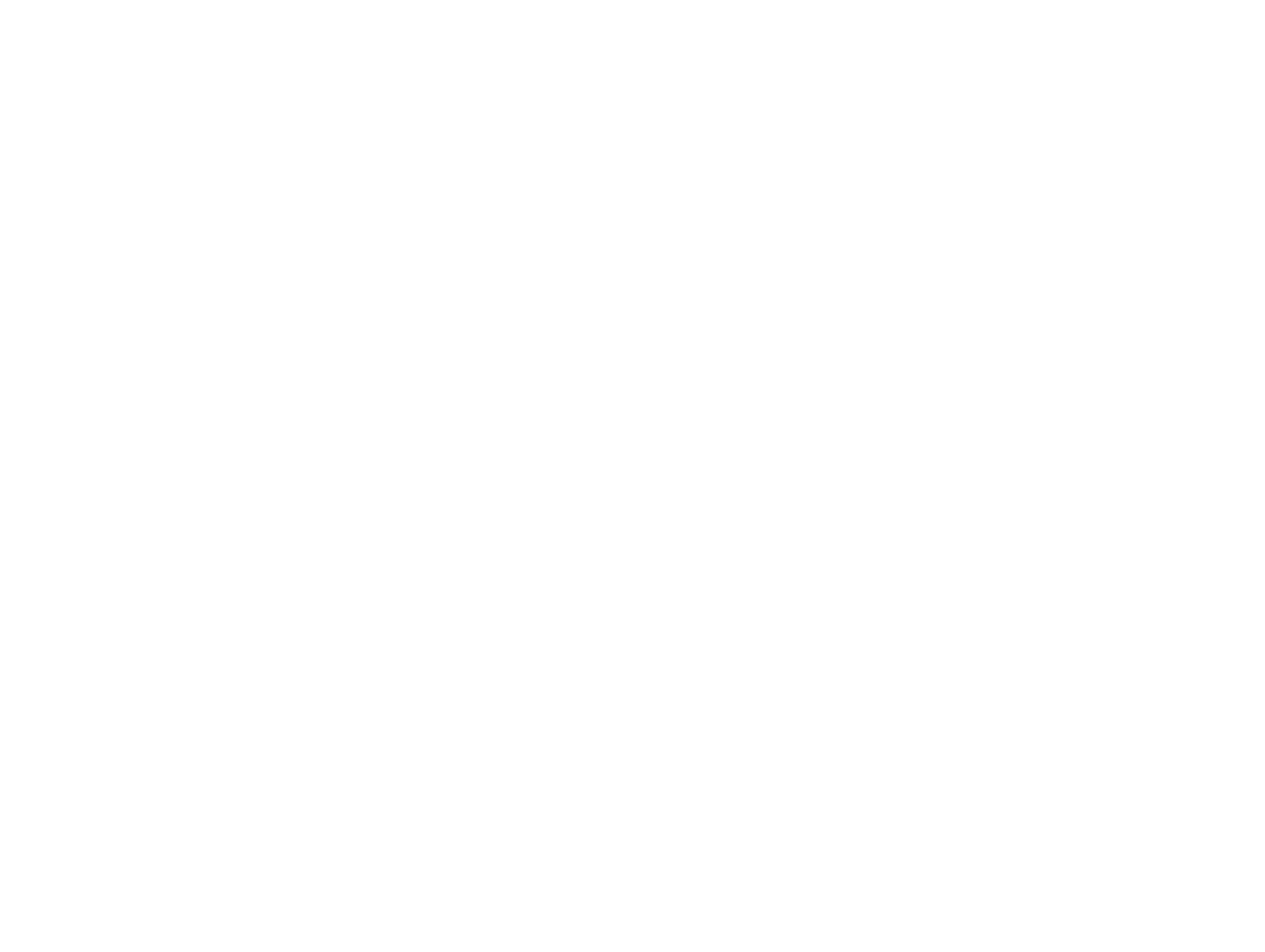
[4]
Группа «Женский отказ»
Письмо в институцию
Группа «Женский отказ»
Письмо в институцию

[4]
Группа «Женский отказ»
Фото группы
Группа «Женский отказ»
Фото группы
вторая часть выставки в чоп созидание
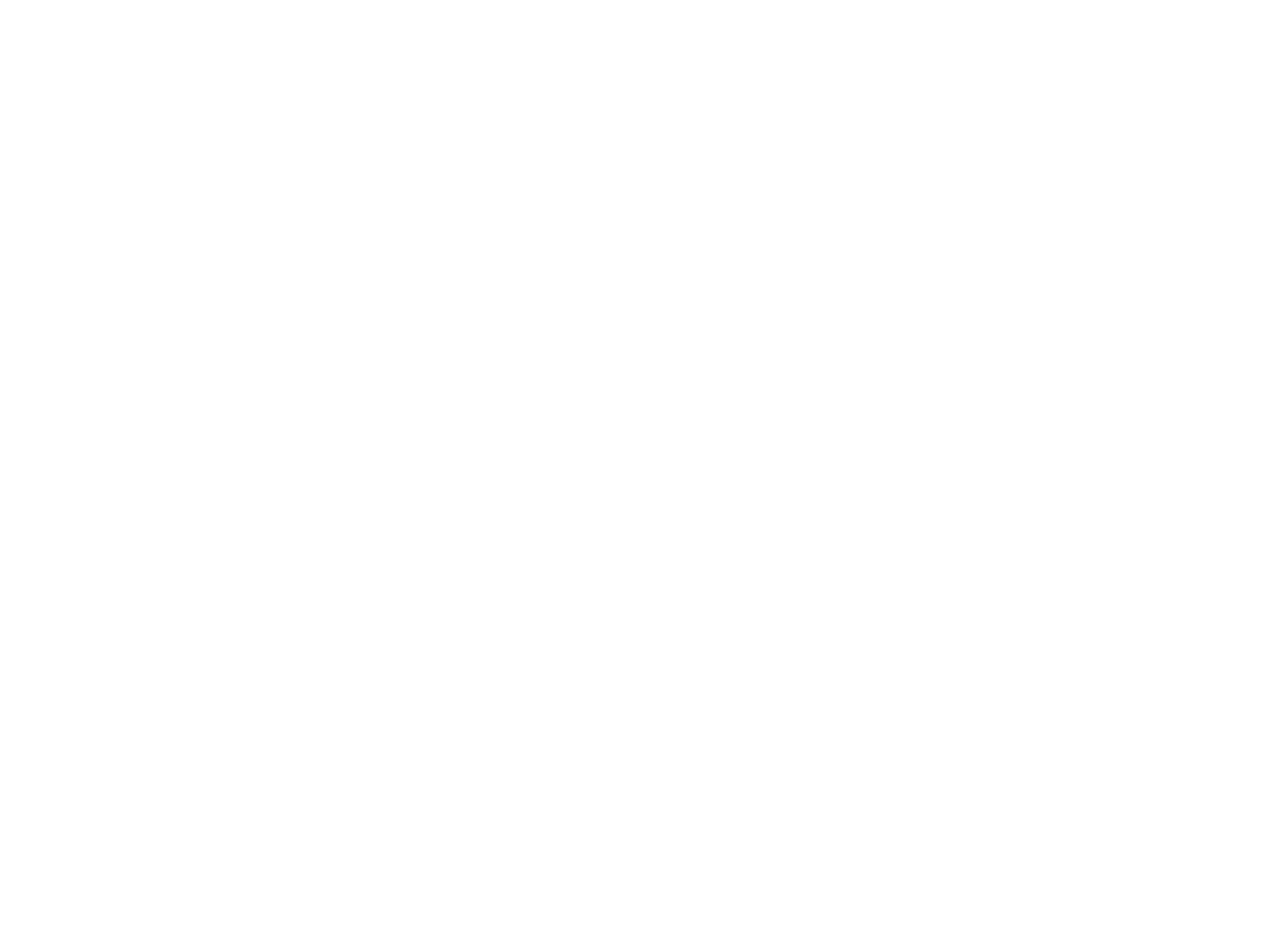
Вид экспозиции
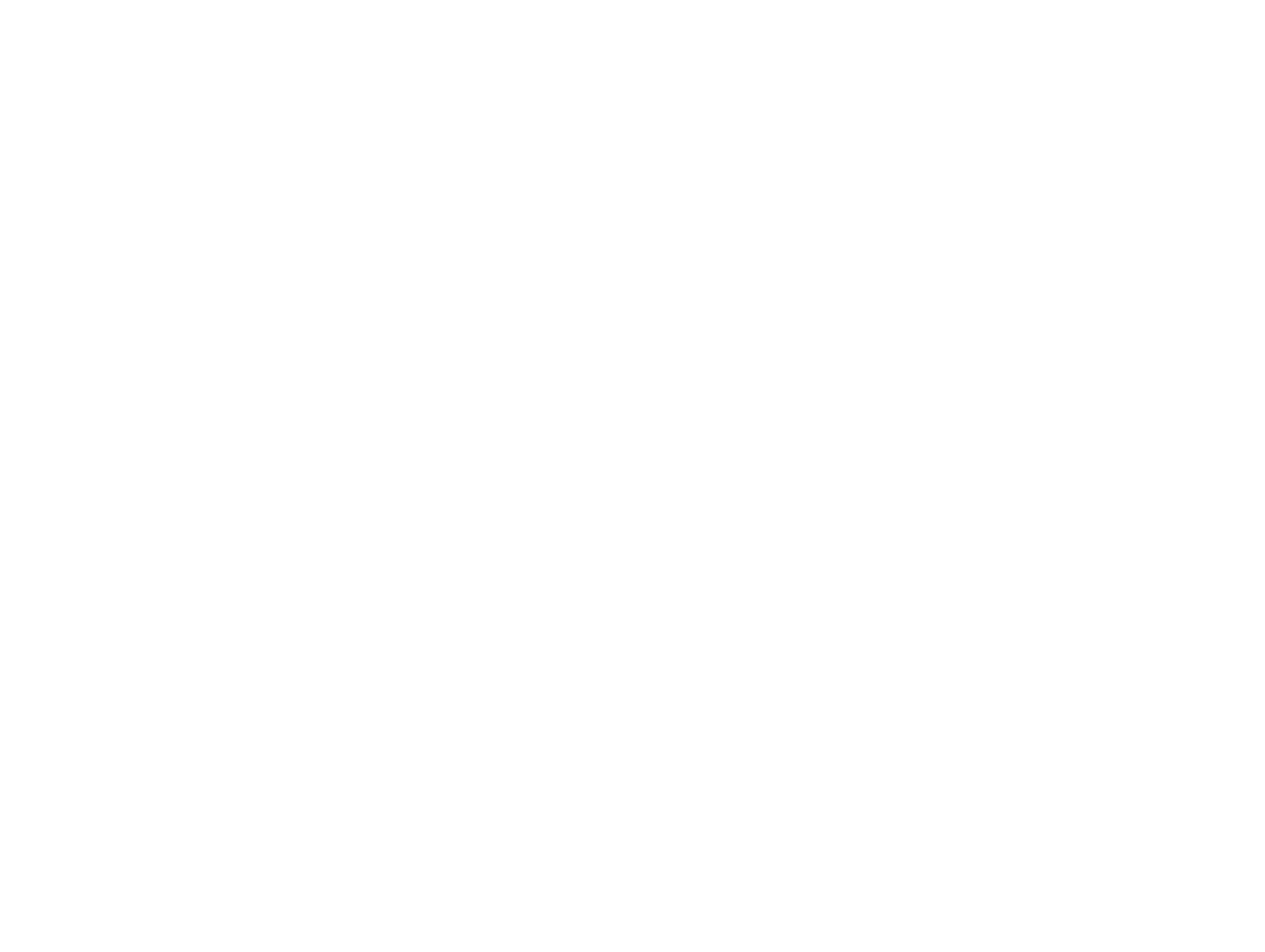
Вид экспозиции
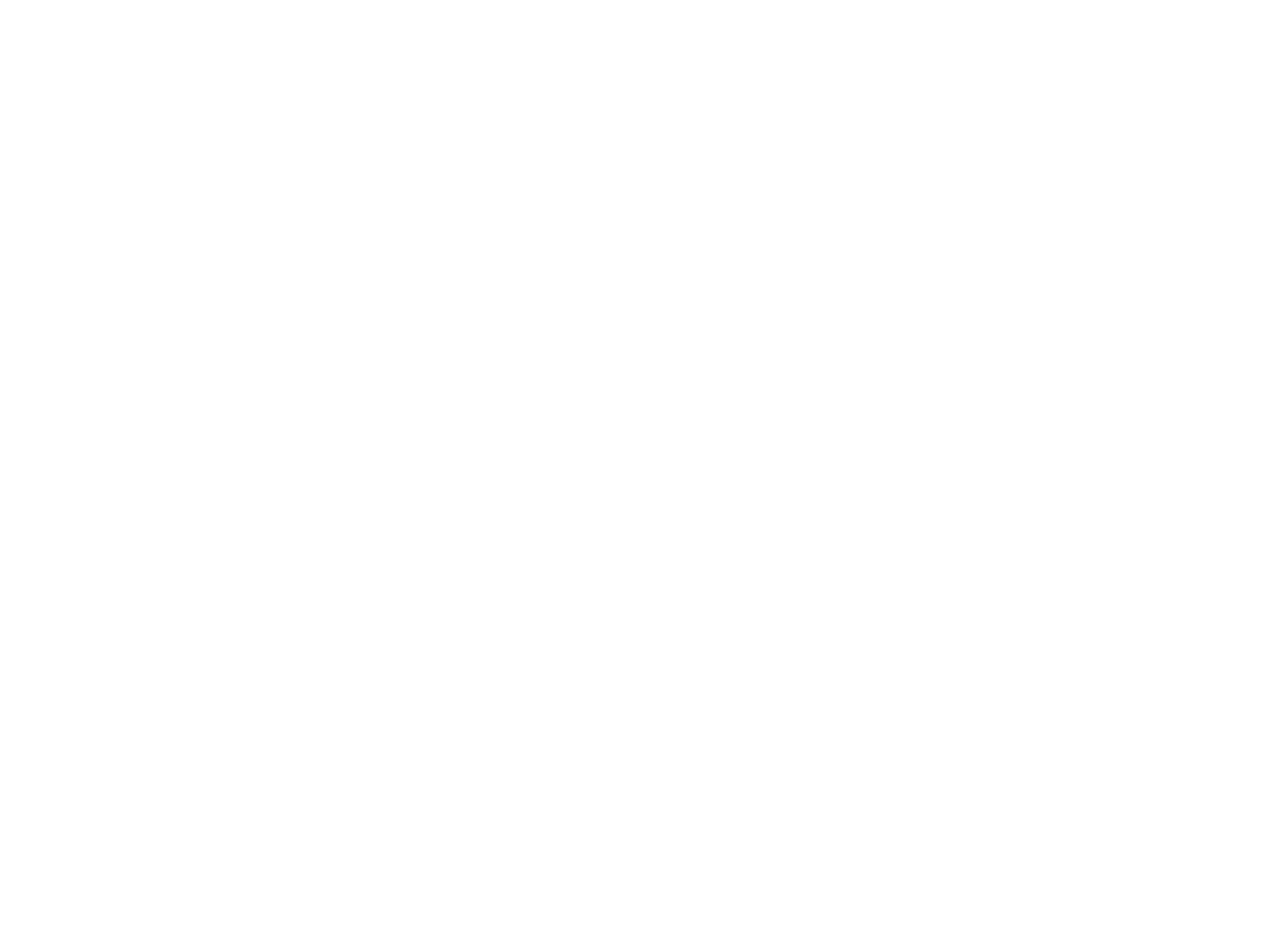
Вид экспозиции

[1]
Марина Дьяконова
«Бетонные бабы»
Бетон, текстиль.
2024
Марина Дьяконова
«Бетонные бабы»
Бетон, текстиль.
2024

[1]
Марина Дьяконова
«Бетонные бабы»
Бетон, текстиль.
2024
Марина Дьяконова
«Бетонные бабы»
Бетон, текстиль.
2024

[2]
Вика Командина
«Брак»
Инсталляция, фарфор
2024
Вика Командина работает с реди-мейдами, бракованными фарфоровыми статуэтками. Художница заснула
на рабочем месте своего начальника, а трудится она на фарфоровом заводе, и сон, лейтмотивом которого было слово «брак», инспирировал создание этого произведения. Расположение рельефного контура из фигур на полу
и отказ от ограждений создает риск порчи и так уже отбракованных статуэток. Эфемерный сон, эфемерный брак (а понять, почему именно эти статуэтки не прошли селекцию может разве что профессионал, для профана они практически все нормальные), эфемерная целость и сохранность произведения — работа Вики Командиной пронизана хрупкостью и неоднозначностью самого означающего «брак», которым как говорят в России
«хорошую вещь не назовут».
Вика Командина
«Брак»
Инсталляция, фарфор
2024
Вика Командина работает с реди-мейдами, бракованными фарфоровыми статуэтками. Художница заснула
на рабочем месте своего начальника, а трудится она на фарфоровом заводе, и сон, лейтмотивом которого было слово «брак», инспирировал создание этого произведения. Расположение рельефного контура из фигур на полу
и отказ от ограждений создает риск порчи и так уже отбракованных статуэток. Эфемерный сон, эфемерный брак (а понять, почему именно эти статуэтки не прошли селекцию может разве что профессионал, для профана они практически все нормальные), эфемерная целость и сохранность произведения — работа Вики Командиной пронизана хрупкостью и неоднозначностью самого означающего «брак», которым как говорят в России
«хорошую вещь не назовут».

[2]
Вика Командина
«Брак»
Инсталляция, фарфор
2024
Вика Командина
«Брак»
Инсталляция, фарфор
2024

[2]
Вика Командина
«Брак»
Инсталляция, фарфор
2024
Вика Командина
«Брак»
Инсталляция, фарфор
2024
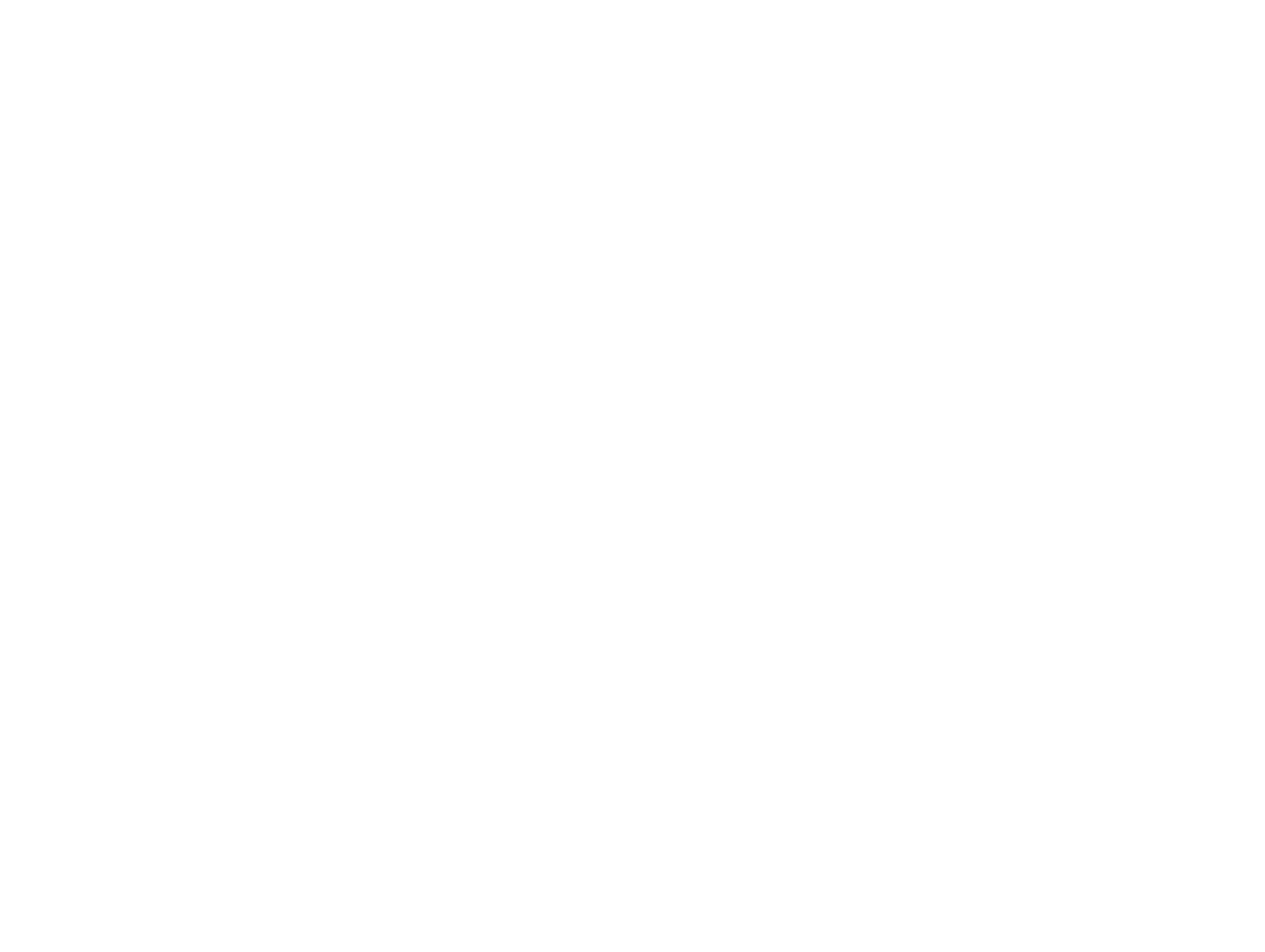
[3]
Кутя
«Мандорла»
Текстильный ассамбляж, вышивка бисером
2019
репродуктивный труд
—
невидимый труд
бесплатный труд
отчужденный труд
изоляция
забвение
одиночество
терпение
я должна должна должна
еще раз должна
и только если я остановлюсь, мой труд будет заметен, но тогда я столкнусь с осуждением
***
Старое полотенце как невидимый и неоплачиваемый репродуктивный труд, который закреплен преимущественно за женщинами. Роли матери и домашней работницы определяются обществом
как эссенциалистские, то есть как некие базовые настройки женщины, делая все остальные
ее интересы вторичными по умолчанию. Интересы(желания) женщины одобряются, только
если они являются производными от ролей “истинного предназначения”, которые вшиты
в ее идентичность как тысячи золотых бисерин в старое полотенце.
Кутя
Кутя
«Мандорла»
Текстильный ассамбляж, вышивка бисером
2019
репродуктивный труд
—
невидимый труд
бесплатный труд
отчужденный труд
изоляция
забвение
одиночество
терпение
я должна должна должна
еще раз должна
и только если я остановлюсь, мой труд будет заметен, но тогда я столкнусь с осуждением
***
Старое полотенце как невидимый и неоплачиваемый репродуктивный труд, который закреплен преимущественно за женщинами. Роли матери и домашней работницы определяются обществом
как эссенциалистские, то есть как некие базовые настройки женщины, делая все остальные
ее интересы вторичными по умолчанию. Интересы(желания) женщины одобряются, только
если они являются производными от ролей “истинного предназначения”, которые вшиты
в ее идентичность как тысячи золотых бисерин в старое полотенце.
Кутя
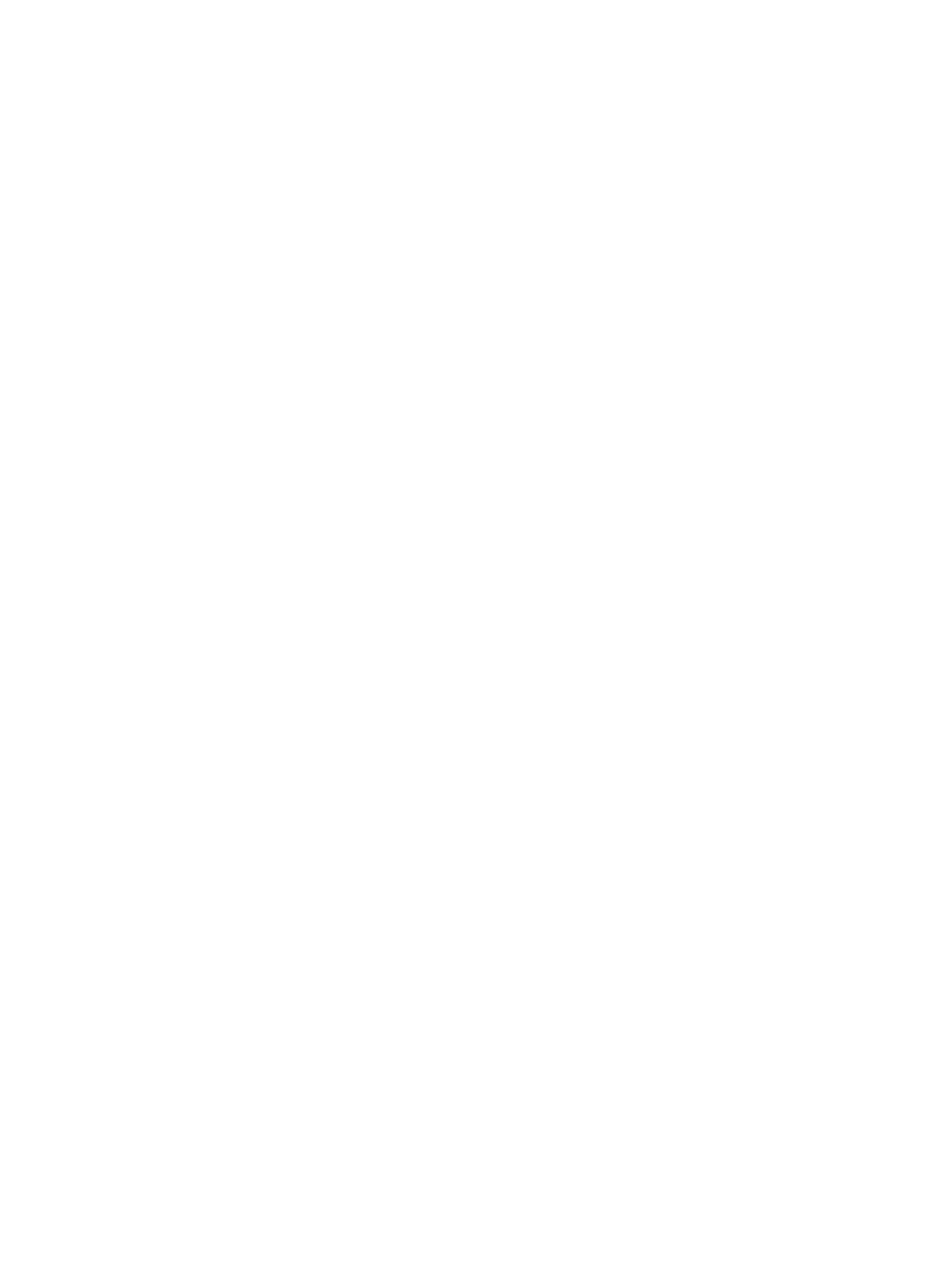
[4]
Мария Кабашова
«Работа»
Перформанс, видео
2021
Художница в прямом эфире на YouTube очистила среднестатистический годовой запас картофеля российской семьи, состоящей из двух взрослых и одного ребенка. Время перформанса составило 13 часов 42 минуты
Мария Кабашова
«Работа»
Перформанс, видео
2021
Художница в прямом эфире на YouTube очистила среднестатистический годовой запас картофеля российской семьи, состоящей из двух взрослых и одного ребенка. Время перформанса составило 13 часов 42 минуты

[5]
Мария Soloway Самойлова
«Завод на моей юбке»
Инсталляция, живопись, акрил, стул, кружево, гипюр, вышивка, пайетки
2022
Инсталляция Марии Soloway Самойловой «Завод на моей юбке» посвящена многолетнему опыту работы художницы на заводах. Мария рисует заводы, на которые смотрела из окна офиса, в холсты она интегрирует фрагменты тканей, которые остались от вещей, сшитых ее бабушкой и мамой, собственные вышивки.
Прием этот напоминает живописные эксперименты с тканями неофициальной советской художницы Лидии Мастерковой, но Мария пишет не абстрактные картины, а индустриальные пейзажи. Заводская тотальная тема сопоставляется с личными и камерными «женскими вещами», а сама инсталляция выглядит как романтическая мастерская художника с пюпитром-треногой, пасторальным столиком, на котором стоит чайный набор, произвольно разбросанными холстами.
Мария Soloway Самойлова
«Завод на моей юбке»
Инсталляция, живопись, акрил, стул, кружево, гипюр, вышивка, пайетки
2022
Инсталляция Марии Soloway Самойловой «Завод на моей юбке» посвящена многолетнему опыту работы художницы на заводах. Мария рисует заводы, на которые смотрела из окна офиса, в холсты она интегрирует фрагменты тканей, которые остались от вещей, сшитых ее бабушкой и мамой, собственные вышивки.
Прием этот напоминает живописные эксперименты с тканями неофициальной советской художницы Лидии Мастерковой, но Мария пишет не абстрактные картины, а индустриальные пейзажи. Заводская тотальная тема сопоставляется с личными и камерными «женскими вещами», а сама инсталляция выглядит как романтическая мастерская художника с пюпитром-треногой, пасторальным столиком, на котором стоит чайный набор, произвольно разбросанными холстами.

[5]
Мария Soloway Самойлова
«Завод на моей юбке»
Мария Soloway Самойлова
«Завод на моей юбке»

[5]
Мария Soloway Самойлова
«Завод на моей юбке»
Мария Soloway Самойлова
«Завод на моей юбке»

[5]
Мария Soloway Самойлова
«Завод на моей юбке»
Мария Soloway Самойлова
«Завод на моей юбке»

[5]
Мария Soloway Самойлова
«Завод на моей юбке»
Мария Soloway Самойлова
«Завод на моей юбке»

[6]
Анна Шевченко
«Яндекс Маркет»
Мозаика
2024
Соцреалистические образы часто исполнялись советскими мастерами в мозаиках.
В современной России такого запечатления удостоилась эмблема популярного маркетплейса,
где чаще всего именно женщины делают покупки для всей семьи и именно на них ложится нагрузка
за обеспечение близких необходимыми предметами пользования. Аня Шевченко представляет вездесущий логотип «Яндекс Маркета», выполненный в типично советских желто-красных цветах
как мозаику-тондо, — получается своеобразная вариация ранних соц-артистских практик, в частности эмблематичного двойного автопортрета Комара и Меламида. Медиум остраняет корпоративную эмблему, совмещая современный капиталистический мир и советскую монументальную традицию.
Анна Шевченко
«Яндекс Маркет»
Мозаика
2024
Соцреалистические образы часто исполнялись советскими мастерами в мозаиках.
В современной России такого запечатления удостоилась эмблема популярного маркетплейса,
где чаще всего именно женщины делают покупки для всей семьи и именно на них ложится нагрузка
за обеспечение близких необходимыми предметами пользования. Аня Шевченко представляет вездесущий логотип «Яндекс Маркета», выполненный в типично советских желто-красных цветах
как мозаику-тондо, — получается своеобразная вариация ранних соц-артистских практик, в частности эмблематичного двойного автопортрета Комара и Меламида. Медиум остраняет корпоративную эмблему, совмещая современный капиталистический мир и советскую монументальную традицию.

[6]
Анна Шевченко
«Яндекс Маркет»
Мозаика
2024
Анна Шевченко
«Яндекс Маркет»
Мозаика
2024